Благословенное проклятие вины Наталья Листопадова-Зэйбл Наталья Листопадова-Зэйбл
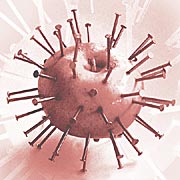 Понятием «вина» оперирует целый ряд дисциплин. В психологии и психоанализе вина понимается как негативное эмоциональное состояние, пребывая в котором, субъект испытывает сожаление по поводу чего-то совершенного, что, по его мнению, не следовало делать. В уголовном праве, а также в области религиозной нравственности и — реже — в иных этических системах понятие вины сходно с концепцией долга в экономике: незаконные или противозаконные действия, причиняющие ущерб объекту, налагают на субъект пропорциональный объем вины. В данной статье мы будем рассматривать вину прежде всего в ее психологическом и религиозно-нравственном значении. Наша цель — во-первых, определить психологические типы вины, во-вторых, выявить источник вины и, в-третьих, установить методы «снятия» вины.
Неоднозначность данного феномена проявляется уже в том, что мнения о чувстве вины расходятся даже непосредственно в психологических кругах. Например, достаточно широко распространена точка зрения о том, что человечество не смогло бы нормально функционировать без чувства вины: некоторые полагают, что вина «помогает нам контролировать «зверя внутри нас» — нашу жадность, гнев и похоть».
Другие заявляют, что благодаря чувству вины мы извлекаем уроки из своих ошибок и впоследствии, попадая в похожую ситуацию, мы удерживаемся от дурных поступков, памятуя о наказании и о наших собственных неприятных эмоциях, вызванных угрызениями совести. Психолог Шери Рон (Sheri Rone) в статье для «Лос-Анджелес Таймс» пишет, что вина есть эффективный способ «уравновешивания влияния» в контексте семейных отношений: в определенных ситуациях более «слабый» супруг может манипулировать более «сильным», прибегая, например, к таким фразам, как: «Если ты меня любишь, ты не сделаешь...» или: «Если ты меня любишь, ты обязательно сделаешь...»
Наконец, чувство вины рассматривается как своего рода «стимулятор», благодаря которому мы выполняем свои обязательства по отношению к работе и учебе, к супругу, детям и родителям, к обществу и т.д.
Тем не менее большинство психологов и психоаналитиков пребывают в уверенности, что чувство вины имеет, скорее, деструктивный характер. Например, британские специалисты из университета Халла заявляют, что «чувство вины снижает сопротивляемость организма инфекции». Более того, согласно американскому психологу Афродите Матсакис (Aphrodite Matsakis), «во многих случаях вина является основополагающей причиной лени, нерешительности, депрессии, патологической тревоги, переедания, алкоголизма, наркотической и сексуальной зависимости». Чувство вины нередко подталкивает человека к самоубийству: по статистике почти 80% взрослых, которые когда-либо предпринимали попытку покончить с собой, страдали от хронического чувства вины или стыда. А среди детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, имеющих склонность к суициду, 25% «наказывают» себя за мастурбацию или за то, что в мыслях желали кому-то смерти.
В винном погребе
Специалисты, занимающиеся данной проблемой, выделяют следующие типы вины:
Инфантильная вина
По Фрейду, чувство вины зарождается в детстве, когда наше благополучие находится в руках родителей и других взрослых. Наше выживание целиком и полностью зависит от того, в какой степени мы радуем наших попечителей. Следовательно, когда они ругают и наказывают детей, у последних появляется чувство страха, что их бросят или перестанут заботиться. Вместе с этим фундаментальным страхом возникает чувство вины, связанное с тем, что мы не в состоянии угодить родителям/попечителям.
Очевидно, что в детстве этот вид вины мотивирует нас к тому, чтобы изменить свое поведение и таким образом избежать наказания или пренебрежения со стороны родителей. В процессе воспитания и, временами, благодаря родительским увещеваниям мы постигаем моральные нормы и правила, присущие нашей семье и обществу в целом. Используя терминологию Фрейда, мы «интернализуем» систему ценностей наших родителей/попечителей и тогда уже автоматически чувствуем себя виноватыми в случае нарушения родительских или социальных норм. Даже когда родителей/попечителей нет поблизости, мы продолжаем ругать себя за неподчинение их правилам. Например, наблюдения за двухлетними детьми показали, что, даже когда их матерей не было рядом, они называли себя «непослушными» и «плохими» за то, что нарушили правило, установленное в их семье.
Фрейд ввел термин «Супер-Эго» для обозначения интернализованных ожиданий и моральных норм, наложенных родителями или обществом. Также Фрейд утверждает, что с возрастом человек нередко переносит свою инфантильную вину с родителей и попечителей на другие лица, наделенные властью, например, учителей, духовных наставников, начальство, политические фигуры и др.
Вина из-за несоответствия родительским ожиданиям
Инфантильная вина зачастую дает начало другому типу вины — из-за несоответствия родительским ожиданиям. В таких случаях мы испытываем чувство вины от того, что не «дотягиваем» до стандартов и требований, установленных нашими родителями/попечителями. Например, если ваш отец не только сам был педантичным садовником, но и вам старался привить идею о том, что сад нужно обязательно содержать в идеальном порядке, много лет спустя вы, скорее всего, будете чувствовать себя виноватым из-за сорняков в саду. Где-то на задворках сознания голос вашего отца (Супер-Эго) корит вас за то, что вы не выполняете своих «садоводческих обязанностей».
Вина из-за несоответствия социальным ожиданиям
Фигуры родителей/попечителей — не единственный источник требований и стандартов, налагаемых на человека. Общество тоже оказывает определенное давление. Какими бы независимыми мы себя ни считали, практически каждый испытывает чувство вины от того, что в чем-то мы не соответствуем ожиданиям, выработанным обществом.
Например, многие западные женщины чувствуют вину по поводу своей фигуры и переживают, что недостаточно «стройны», даже если выросли в семье, которая никогда не обращала особого внимания на параметры женского тела. Таким же образом, поскольку культура традиционно ассоциирует достоинство мужчины с толщиной его кошелька, безработные, а также мужчины, испытывающие финансовые трудности, нередко переживают чувство вины из-за собственной материальной несостоятельности. Иногда даже те мужчины, которые выросли в семьях, где духовные ценности имели гораздо больше веса, чем накопление материальных благ, переживают некоторую степень вины из-за несоответствия социальным ожиданиям (мол, мужчина «должен иметь работу, квартиру, машину и кругленькую сумму в банке»).
Вина оставшегося в живых
Понятие «вина оставшегося в живых» было впервые введено Коббом (Cobb) и Линдерманом (Linderman) в 1947 году, когда они проводили наблюдение за пациентами, выжившими после пожара 1942 года в Нью-Йорке. Характерным признаком этого типа вины является то, что человек, оставшийся в живых, пребывает в замешательстве как относительного самого факта спасения, так и его смысла: «Почему я выжил, а остальные погибли?» Ветераны войны и жертвы геноцида нередко выражают желание «поменяться местами с погибшими»: «Я должен был умереть, а они — остаться в живых». Поскольку очень часто люди, пережившие травмирующие события, не могут «наладить» свою жизнь после трагедии, они приходят к заключению, что погибший смог бы жить гораздо лучше и у него было бы больше смысла в жизни.
Вина детского всемогущества и «вина супермена»
Суть этого типа вины в следующем: дети имеют склонность полагать, будто мир вращается вокруг них, и они могут контролировать все происходящее. Дети пребывают в уверенности, что, если они чего-либо пожелают, это, скорее всего, исполнится. Например, нередко ребенок в порыве гнева кричит (вслух или в мыслях) своему родителю или брату/сестре: «Я тебя ненавижу! Чтоб ты провалился!» Если позднее тот, кто вызвал гнев по какой-то причине заболевает, умирает или уходит из семьи, ребенок считает, что виной всему — он.
В отрочестве и сознательном возрасте вина детского всемогущества может трансформироваться в тип вины, называемый «вина супермена». В травмирующих или глубоко стрессовых ситуациях люди зачастую приходят к заключению, что они обладают сверхчеловеческими качествами. Чем более беспомощным и бессильным ощущает себя человек, оказавшись в критическом положении, тем острее его нужда в сверхчеловеческих силах. Примерами этого вида вины могут послужить медицинские работники, которым не удалось спасти чью-то жизнь; родители, которые не уберегли ребенка от болезни или опасности; родственники смертельно больных, которые корят себя за то, что не смогли предвидеть исход какой-либо медицинской процедуры и т. д.
Религиозная вина
В одной из своих статей Афродита Матсакис пишет: «Грех и вина — это основополагающие темы мировых религий. Многим из нас с детства твердили, что мы должны испытывать чувство вины в тех случаях, когда отступаем от принципов нашего вероисповедания или от традиционного поклонения Богу. Вдобавок, некоторые религии (как, например, христианство и иудаизм) проповедуют доктрину первородного греха и врожденной греховности человека. Христианство утверждает, что все люди от природы злы, а значит, виновны, и только вера может искупить эту вину.
Довольно распространенными являются случаи, когда люди, родные или близкие которых стали жертвой убийства или самоубийства, ищут причину смерти любимого человека в том, что они нарушили какой-либо из религиозных запретов. К примеру, Р. и 15 лет спустя страдает от чувства вины, связанного с самоубийством дочери. Он считает, что это было наказанием за его измену жене, за прелюбодеяние. Другой пример — Э. — ее сын погиб от руки грабителя. В глубине души она полагает, что ограбление — это кара за то, что она оставила религию своего детства и обратилась в иную веру.
Другой вид религиозной вины практически диаметрально противоположен первому. Эта вина связана с отвержением религиозных или духовных верований. Например, родственники детей, погибших в результате болезни, убийства или самоубийства, больше не верят в Бога, потому что их молитвы не были услышаны. Люди, ставшие жертвами стихийных бедствий (пожаров или наводнений), а также физического или сексуального насилия, могут оставить свои религиозные убеждения, потому что Бог не послал им помощь и спасение в минуту нужды. Такие люди нередко чувствуют себя виноватыми в том, что они отошли от прежних верований, — особенно, если члены семьи или друзья критикуют это решение».
Вина «тени»
Психолог Карл Юнг (Carl Jung) описывал человеческую личность как комплекс нескольких составляющих. Одну часть нашей личности — ту, которую мы предъявляем окружающему миру, — он обозначил как «персону». Она оформляется, когда человек на опыте изучает, что характеризует социально приемлемое поведение, и это помогает ему корректировать определенные инстинкты и желания. Таким образом, он приспосабливается к обществу и избегает наказания за нарушение социальных правил.
Другая часть личности — это «тень». «Тень» является хранилищем всех наших желаний и чувств, которые мы (или общество) считаем недопустимыми. То есть, в «тени» прячутся наши похоть, жадность, тщеславие, мелочность, эгоизм, склонность к насилию и злу; а также те качества, которые, в принципе, не относятся к категории «греховных», но которые социально нежелательны (например, ранимость и эмоциональность в мужчине или агрессивность в женщине).
По Полю Турнье (Paul Tournier), несмотря на то, что, как правило, «тень» пребывает в подавленном состоянии, и обычно мы не поступаем в соответствии с импульсами и желаниями «тени», мы тем не менее осознаем, что нам присущи тайные похоти и искушения, которые мы (или окружающие) считаем аморальными. Это порождает чувство вины. Так, П. Турнье отмечает: «В экзистенциальном смысле... человек чувствует вину за самого себя... потому что в нем скрываются желания, импульсы и комплексы, с которыми не может справиться ни его воля, ни его интеллект, ни его знание».
Вина жертвы насилия
Многие жертвы физического и сексуального насилия считают, что они сами послужили его причиной. Поскольку нормальному человеку невыразимо трудно понять, почему кто-то совершает вещи подобного рода по отношению к другому человеческому существу, жертвы насилия полагают, что они, должно быть, совершили нечто заслуживающее такого обращения. Ситуация усложняется еще и тем, что жертвы насилия никому не рассказывают о происходящем: либо из-за чувства вины, либо потому, что они опасаются недоверия и скептицизма со стороны окружающих, либо из страха перед насильником.
Большинство психологов относят все вышеперечисленные типы вины к категории «невротической», ложной вины. Очевидно, истинная вина (то есть ситуации, когда человек намеренно причиняет вред другому человеку или его имуществу) в примерах не нуждается. Отметим лишь, что в тех случаях, когда люди не испытывают «здорового» чувства вины, их называют «психопатами» или «социопатами» и прячут за решетку.
Тайны вина-делия
Прежде чем мы приступим к рассмотрению способов, при помощи которых человечество могло бы освободиться от вины, представляется существенным выяснить, что (или кто) положило начало этому чувству. Существует не одна теория, предпринимающая попытки ответить на данный вопрос, и мы проанализируем некоторые из них.
«Побочный эффект» воспитания
С одним из мнений мы уже познакомились выше: по мнению Фрейда, чувство вины возникает в том случае, когда наши поступки вызывают неудовольствие родителей/попечителей, от которых зависит наше существование и благополучие.
Слишком добрые
Согласно другой точке зрения, «все мы в сущности своей хорошие, и все наши намерения носят положительный характер. По крайней мере, каждый человек инстинктивно осознает, что так должно быть. Поэтому, если субъект понимает, что он совершил некий поступок, который в его сознании подпадает под категорию «плохо», это нарушает постулат о добродетельности человека, что, в свою очередь, влечет за собой типичную реакцию: доминирующие негативные чувства, попытки скрыть свое поведение от самого себя и окружающих, стремление наказать себя и т. д.».
Хищник в наморднике
Третья позиция связывает чувство вины с фактом существования моральных норм: «Человек по своей биологической сути — хищник. А убийство для хищника — дело естественное. Но теперь представьте, что было бы, если бы все мы начали друг друга убивать? История человечества закончилась бы еще в каменном веке. Именно поэтому на самой заре цивилизации в структуре человеческого мышления появилась так называемая «цензура» (или, по Юнгу, «коллективное бессознательное») — различные системы табу и запретов, в том числе и на убийство».
И далее: «Нравственные нормы — это, по сути, совокупность фиксированных правил, которые ввел некто, наделенный властью, теоретически для того, чтобы упростить жизнь людей и обеспечить их разумное сосуществование. Моральные нормы, созданные под влиянием благородных мотивов, представляют собой набор элементарных правил поведения, следование которым способствует максимальному улучшению жизни общества. Если же мотивы оказываются не очень возвышенными, тогда моральные нормы выполняют роль своеобразного «контролера»; поскольку люди, чувствующие вину, считают себя недостойными, меньше вероятность, что они станут отстаивать свои права и привилегии. В результате массы будут гораздо более покорными».
Условный рефлекс
Четвертая точка зрения утверждает, что, «вполне вероятно, вина — это просто естественный феномен нашей природы млекопитающего. Вина представляется очень примитивным механизмом, запрограммированным в нас для того, чтобы в будущем уберечь от ошибок, которые мы совершили в прошлом. Принуждая нас снова и снова переживать болезненные события, а также напоминая о поступках, послуживших причиной негативного опыта, чувство вины буквально «впечатывает» в наш мозг связь между определенным поведением и тем чувством дискомфорта, которое с ним (поведением) ассоциируется. Все происходит по принципу условного рефлекса — как в случае с собаками Павлова. Таким образом, когда мы снова попадаем в похожую или идентичную ситуацию, у нас в голове «включается» сигнал тревоги — мы мгновенно забываем о том, что занимало нас буквально секунду назад, и начинаем искать источник опасности».
«Избавим от зависимости…»
Всеобщая амнистия!
Всему многообразию теорий о чувстве вины соответствует целый ряд предложений и советов о том, как от него избавиться. Например, одно из мнений гласит: «Чтобы справиться с чувством вины, нужно помочь человеку понять, что в основании его сущности лежит добродетель. Если мы докопаемся до сути его «плохих» деяний, мы увидим, что в их корне — по большому счету, хорошие намерения. Люди поступают определенным образом, потому что в тот или иной момент именно этот поступок представляется им наилучшим вариантом. Поэтому человеку нужно научиться прощать себя. Поиск прощения грехов кем-то из вне в этой ситуации ничего не меняет, так как ведет к безответственности. Человек должен сам отвечать за свои действия. Он обязан вести себя в соответствии со своей внутренней добродетелью и прощать себя за те ошибки, которые, возможно, были допущены им. Поскольку вина есть результат нашего осуждения и критики, нужно всего лишь от них «отречься». Осуждение и критика — это, по своей сути, «приговор», и его можно «подправить» с относительной легкостью. Секрет в том, чтобы «вынести» его заново: возьмите назад свой первоначальный «приговор», модифицируйте свое решение, отмените его и перестаньте осуждать себя».
Невменяемые нарушители
Американский психолог Р. Кауфман (R. Kaufman), в свою очередь, предлагает следующее: «Мы не можем быть твердо уверены в том, что есть честность и справедливость. Таким образом, за исключением тех случаев, когда человек пребывает в абсолютной уверенности, что он заслуживает справедливого наказания (что невозможно), то и повода для вины не должно быть. Другими словами, поскольку очень немногие люди могут с точностью сказать, что они достойны наказания, нет никакого основания для того, чтобы испытывать вину за поступки, совершенные в прошлом.
Кроме того, как известно науке, всему есть своя причина. Детерминист сказал бы, что любое поведение (мысли, чувства и поступки) — это естественное, неизбежное, соответствующее законам природы следствие прошлого опыта, воздействия окружения, а также наследственных или психологических факторов. Следовательно, если некий поступок — независимо от того, праведный или развратный, — обусловлен историческим влиянием или влиянием окружающей среды, как можем мы нести ответственность за все то, о чем думаем, что чувствуем и совершаем? Если мы не обладаем абсолютным контролем, значит, мы просто не можем быть всецело ответственными за что-либо или виноватыми в чем-либо». Вывод Р. Кауфмана: перестаньте корить себя за прошлое — лучше сосредоточьте свое внимание и усилия на будущем.
…И другие рекомендации
Психологи, считающие, что вина — это простой «условный рефлекс», советуют «научиться жить с этим чувством и извлекать из него максимально возможную выгоду». В случаях, когда человеку не удается последовать данному совету, «можно изменить интенсивность чувства вины при помощи соответствующих медицинских препаратов, подавляющих чувство тревоги, или релаксирующих упражнений. Помимо этого, существует целый ряд курсов и программ «самопомощи», например: гипноз, медитация, нейро-лингвистическое программирование (НЛП), метод Рэйки (искусство физического, духовного и психического исцеления с помощью передачи энергии через руки целителя), символдрама (метод кататимного переживания образов) и т. д.».
Кроме того, «если уж в какой-то момент жизни вы причинили умышленный ущерб другому человеку, укротить вашу совесть можно лишь одним способом: сконцентрируйтесь на добрых делах и благотворительности, посвятите всю свою жизнь служению другим людям!»
В свою очередь, американский философ Эрик Хоффер (Eric Hoffer) предлагает максимально радикальный путь: «Самый эффективный способ унять свою совесть — убедить себя, что те, против кого мы согрешили, на самом деле испорченные, развращенные существа, достойные не только наказания, но и истребления. Мы не имеем права жалеть тех, по отношению к кому мы поступили несправедливо; быть к ним равнодушными мы тоже не должны. Мы должны их ненавидеть и травить — а иначе нас затопит презрение к самим себе».
Нежный вампир нравственности
Какими бы различными ни казались все вышеупомянутые теории, есть в них нечто общее: все они так или иначе говорят о том, что чувство вины возникает как следствие установленных моральных норм. Например, когда Фрейд описывает особенности инфантильной вины, он, фактически, подразумевает, что родители/попечители ругают или наказывают ребенка, потому что тот нарушил те или иные фиксированные правила и стандарты. Авторы, утверждающие, что человеческая природа добродетельна сама по себе, тоже, по сути, косвенно заявляют, что чувство вины обусловлено некими моральными нормами: если мы в состоянии оценить наш поступок (или мысль) как «хорошую» или «плохую», значит, в нашем сознании имеется определенный эталон, который и служит основанием для оценки. То же характерно и для теории о чувстве вины как «просто естественном феномене нашей природы млекопитающего»: необходимо, чтобы формированию условного рефлекса предшествовало чувство дискомфорта, ассоциируемое с тем или иным аморальным поступком. Опять-таки, каким образом мы определяем, что именно данное действие должно пробуждать в нас угрызения совести?
Итак, представляется существенным проанализировать этот «общий» элемент, присущий всем теориям.
Если, согласно одному из утверждений, моральные нормы были введены кем-то, «наделенным властью, теоретически для того, чтобы упростить жизнь людей и обеспечить их разумное сосуществование», почему эти правила не согласуются с тем поведением, которое нам присуще чаще всего? Ведь этот «некто, наделенный властью», — тоже человек? Так отчего бы не «состряпать» нравственный кодекс таким образом, чтобы он признавал морально приемлемым то поведение, которое для нас наиболее характерно? Значит, как выразился американский проповедник Грегори Коуки (Gregory Kouki), «наша собственная нравственность слишком ничтожна, чтобы объяснить то чувство вины, которое мы ощущаем».
Далее, если мы соглашаемся с мнением о том, что моральные нормы есть выдумка власть имущих, не логично ли предположить, что в разных цивилизациях и в разные эпохи нравственный кодекс должен быть различным — в силу культурных, исторических и этнических особенностей? Тем не менее, как утверждает Клайв Льюис, «если кто-либо возьмет на себя труд сравнить учения о нравственности, скажем, у древних египтян, вавилонян, индусов, китайцев, греков и римлян, то он будет поражен тем, насколько все эти учения похожи друг на друга и на наше собственное... Представьте себе страну, где бегство с поля битвы вызывает восхищение, или где человек испытывает гордость, обманывая людей, сделавших ему больше всего добра. С таким же успехом можно попытаться вообразить страну, где дважды два — пять. Люди расходились во мнениях о том, следует ли относиться самоотверженно и бескорыстно только к собственной семье или к соотечественникам или решительно ко всем. Но все всегда соглашались с тем, что нельзя на первое место ставить себя. Эгоизм никогда не был предметом восхищения. Люди расходились во мнениях о том, должна ли у вас быть одна жена или четыре. Но они всегда соглашались, что нельзя овладевать любой понравившейся вам женщиной».
Наконец, мы не имеем права говорить о «благородных» или «не столь возвышенных» мотивах, которыми руководствовался «некто» в процессе создания моральных норм, не давая при этом оценки той или иной системе нравственности. По Льюису, «если ни одна система нравственности не лучше другой, то было бы бессмысленно предпочитать цивилизованную нравственность нравственности дикарей или христианскую нравственность — нацистской. Конечно же, мы верим в то, что некоторые нравственные основы лучше других. Ну, так вот: в тот момент, когда вы говорите, что один набор понятий о нравственности лучше другого, вы фактически сравниваете оба с неким эталоном и утверждаете, что один из них более соответствует эталону, чем другой. Но эталон, мера оценки двух предметов есть нечто отличное от каждого из них. Вы сравниваете оба набора с некой «абсолютной моралью», признавая, что «правильное» реально существует, что бы люди ни думали об этом, и что у некоторых людей представления соответствуют «правильному» больше, чем у других. Или так: если ваши идеи более нравственны, чем идеи нацистов, значит, существует некая «истинная» мораль, по отношению к которой одни суждения могут быть правильнее других».
Итак, вслед за Льюисом мы приходим к заключению, что в мире существует некий Нравственный (или, как его еще называют, «естественный») Закон, данный нам свыше.
Таким образом, мы испытываем чувство вины не только (и не столько) потому, что нарушаем нормы морали, принятые тем или иным обществом, — цитируя Грегори Коуки, «реальная нравственная вина, которую мы ощущаем, говорит о том, что мы нарушили реально существующий нравственный закон, установленный реально существующим нравственным Законодателем... Как физическая боль сигнализирует о «неполадках» в нашем теле, так и «этическая боль» (чувство вины) сигнализирует о «неполадках» в наших душах».
Из этого следует, что все вышеупомянутые способы «укрощения» вины, предлагаемые светскими психологами, направлены лишь на снятие «симптомов», но никак не на исцеление самого «недуга».
Истина в вине
С точки зрения христианства, человеческое чувство вины отвечает реальному положению вещей: «Весь мир становится виновен пред Богом» (Рим. 3: 19). С одной стороны, мы действительно фатально виновны перед Богом за гордыню, бунт и непослушание Ему, за злые поступки по отношению к другим людям. С другой стороны, мы не в состоянии сами изменить собственную натуру и перестать грешить, как бы искренне этого не желали и какие бы напряженные усилия к этому не прикладывали: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу — делаю» (Рим. 7: 19).
Христианство утверждает, что от вины не избавиться, просто отрицая ее. Единственный надежный и эффективный способ — получить прощение, которое, кстати, может исходить лишь от Того, Кого мы оскорбили и Чей закон мы нарушили. Наша объективная вина была доказана, мы признаны виновными и ожидаем заслуженного наказания. И это, увы, факт.
Каким же образом мы можем возместить нанесенный нами ущерб и «выпросить» у Бога прощение? Библия говорит, что эта задача, увы, нам не под силу: наши добродетельные поступки — все равно, что запачканная одежда в глазах святого и всемогущего Бога (Ис. 64: 6).
Чувство вины, сигнализирующее о глубоком конфликте между слишком высокими требованиями, которые на нас налагаются, и нашим несовершенством, неспособностью им соответствовать, их исполнить, может служить косвенным доказательством существования понятия греха, вносящего разлад между «должным» и «сущим». К счастью, проповедуя доктрину о греховности человека, христианство не преследует своей целью внушить кому-либо ложную религиозную вину. Бог, Каким мы узнаем Его благодаря Библии, предлагает реальное решение: загладить нашу вину может лишь Тот, Кто ни в чем не провинился, но подчинился закону от начала до конца — Иисус Христос. Именно поэтому «мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его…» (Еф. 1: 7).
Христианство ни в коем случае не культивирует и не раздувает чувство вины и не стремится манипулировать людьми с его помощью — оно предлагает реальный, эффективный и окончательный способ полного «исцеления» от чувства вины и его калечащих последствий. Освободиться от чувства вины можно, «во-первых, через спасение», — пишет в своей книге «Ложная вина» Стив Шорс (Steve Shores). «Если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, у вас нет никаких средств защиты против вины. Единственное, что спасает нас от ее бешеных атак, — признание наших грехов перед Богом и принятие того факта, что смерть Его Сына искупила наши прошлые, настоящие и будущие прегрешения. Пока вы не осознаете нужду в личном Спасителе, любые попытки смыть пятно вины и греха закончатся ничем. Спасение — всегда первый шаг к свободе.
Второй шаг — определить, если возможно, причину, по которой мы испытываем чувство вины. Истинная вина — всегда положительный мотиватор: поскольку аморальные поступки неизбежно влекут за собой серьезные последствия, Бог использует «встроенное» в нас чувство вины, чтобы привести нас к покаянию. Следует помнить, однако, что Господь всегда обличает нас в конкретном грехе. Если нас преследует смутное, размытое чувство вины, в большинстве случаев, это ложная вина, внушаемая нам сатаной.
Последний шаг — признать, что Иисус не только искупил все наши грехи, но и удалил от нас наши беззакония так далеко, как разделены восток и запад (Пс. 102: 12), ввергнул их в пучину морскую (Мих. 7: 18-19) и больше никогда о них не вспомнит (Иер. 31: 14, Евр. 10: 17). Если мы упорно продолжаем казнить себя даже после того, как приняли Божье прощение, мы — осознанно или неосознанно — заявляем, во-первых, что обладаем более «высоким» чувством справедливости, чем Святой Бог, а, во-вторых, что Иисус недостаточно пострадал на кресте за наши грехи и что Его безгрешность не покрыла нашу греховность.
«Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31: 3-5).
И если Незнайка лишь «обманывал» свою совесть, на время заглушал ее голос с помощью нехитрой уловки, то для Бога исправление наших ошибок и «нейтрализация» зла, которую мы совершаем, похоже, — повседневная работа. «Непоправимый вред», который мы нанесли другим или самим себе, Он силен исправить, и в итоге приводит любую кризисную ситуацию к счастливому концу. Слово Божие не устает заверять: «Намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29: 11).
|
